Викторианские истории. Вера, Надежда... Любовь
Солнце в аллее, высвеченный им на тропинке узор, топот резвых ножек, далекие детские голоса… И вдруг – огромная черная собака, выпрыгивающая из кустов. Та, что часто отнимала добычу, найденную в мусорном контейнере – кусок хлеба, кость с остатками мяса. Она караулила, а как только он находил съестное, кидалась и отбирала. Мимо сновали люди. Старик не воспринимал, не отождествлял себя с ними, голодный пес был понятнее ему и ближе. Пес только угрожал и показывал крепкие клыки, а человек мог ударить.
Во сне старик сцепился с собакой. Они упали на солнечную дорожку, он слабеющими пальцами сжал мохнатое горло. Понял, что собачья жизнь истекает капля за каплей, торжествовал – он защитил! Защитил Веру и Надежду…Что это было, или кто – Вера и Надежда? Не помнил, но знал – он должен защищать их от псов и дурных людей мира.
Скоро придет санитарка, начнет тормошить. По правой ноге пробежали мурашки… Неужели?.. Старик неохотно приоткрыл правый глаз, надеясь на чудо. Чуда не случилось: в изножье, где одеяло должно было топорщиться, оно лежало ровно, гладко, как бриз. А выше лежал он – обрубок. Полчеловека.
Он привык не думать, но сейчас не получалось. Обычно все мысли и силы уходили на поиск еды, тепла, забытья. Теперь силы были не нужны, поэтому мысли усилились, и замелькали воспоминания. Унять их старик не мог. Живые мысли слушались не его, а сердца. Все еще, черт бы его побрал, живого. Старик лежал, тщетно пытаясь подавить их, и тихо плакал от бессильного напряжения. От невозможности не думать и не вспоминать.
– Добрый денек, Неизвестный! Как дела? – санитарка Люба привычно сдернула с него одеяло, одежду, вытянула простыню.
Под бинтами засаднили потревоженные культи. Старик протестующе замычал, прикрылся ладонями.
– Ой, да ладно! Будто я тебя не видала. Да я за свою жизнь всяких навидалась! Вот рубашку сменим, лицо умоем, станешь у нас как новенький. Сказал бы хоть имя, а то все Неизвестный, Неизвестный, – не ожидая ответа, Люба все-таки заглянула в выцветшие глаза. – Плачешь, что ли? С чего это вдруг? Ты кто – Николай? Павел? Дмитрий? Ну, давай покушаем, Коля-Паша. Давай заново учиться ложку держать. Радуйся, что руки целы…Эй, куда на рубашку-то льешь! Только что ведь переодела! Ох, горе ты мое!
– Викторовна! – остановилась в дверях разбитная раздатчица Роза. – Долгонько ты, гляжу, нянькаешься с Неизвестным. Все его одного обхаживаешь…
Мало кто осмеливался так с Любой шутить. Она не оглянулась. Старик сумел донести ложку с супом до рта, не расплескал. А Роза не унималась:
– Понравился, что ли?
Санитарка повернула к ней разъяренное лицо:
- Чего надо?
Роза в оторопи уставилась на них обоих, и вдруг выставила вперед палец:
– Викторовна… Ты глянь… Глянь, как вы похожи-то! Родинка на щеке – один в один! И глаза… Не-е, ну надо же! Как под одну раздачу попали, вот природа что творит! Или, – ожила она, – этот старик соседом вашим был, когда ты у мамки своей народилась, а?
Роза захохотала и, брякая посудой, покатила тележку дальше.
Старик залез рукавом в тарелку и перевернул ее на себя. Санитарка уже отошла к другим подопечным, звать ее было стыдно. Мокрая рубашка прилипла к груди и неприятно холодила кожу. Окно потихоньку синело, потом его словно чернилами облили с уличной стороны и, наконец, под верхней перекладиной рамы завис золотистый шар луны. Как на елке из прошлой жизни…
Зашла усталая санитарка, поменяла, не злобясь, рубашку. Помогла с мелкими делами, ставшими унизительно невыполнимыми без чужой помощи, и присела рядом на стул.
– Ты хоть слово можешь сказать?
Старик отрицательно мотнул головой.
– Ты – Семен? Нет? Алексей? Виктор?..
Показались сточенные зубы: старик изобразил подобие улыбки.
– Виктор, – она легонько коснулась родинки на его щеке.
…Люба отца не знала. Мама о нем не рассказывала, а от вопросов отмахивалась:
– Отстань!
Лучше бы мама что-нибудь соврала, чем говорить так. Что-нибудь о летчике, который летел-летел на истребителе, а тот загорелся, и тогда летчик, отец Любы, с напарником-другом увели от города пылающий самолет, как поется в песне «Огромное небо». «Пускай мы погибнем, но город спасем!» Или пусть бы Любин папа был капитаном дальнего плавания. «Капитан, капитан, улыбнитесь…» Да хоть простым шофером. Не в капусте же ее мама нашла!
– Мам, а ты…
– Отстань!
На все вопросы один ответ.
Когда Любе исполнилось восемь, она по-настоящему поняла – не в капусте. Девчонки постарше подробно объяснили ей, каким образом получаются дети. Поняла Люба и то странное, что делала мама с пришедшими в гости мужчинами, а дочку отсылала играть на улицу. Торкнешься в дверь – заперто. Раньше Люба недоумевала и обижалась: шоколадными конфетами мама, что ли, угощает гостей без нее? Глупая была.
А скоро умерла мама. Вечером ходила по дому, песни пела – она любила петь песни, – а утром лежала на кровати в луже крови и застывшими глазами смотрела в потолок.
«Залетела от неизвестного, хотела сама аборт сделать катетером, да не вышло», – сказали умные девочки и опять все объяснили. Кроме слова «катетер». Люба узнала, что означает это слово потом, учась в медицинском училище. А тогда подумала о себе и маме как бы со стороны: «Значит, я тоже – от неизвестного».
Мама, может, и не знакома была с Любиным отцом. Если знакомиться с мужчинами таким способом, как мама, то это называется не знакомство, а по-плохому, на букву «б» – так девочки сказали. Спасибо, что мама родила Любу, не выкинула и кормила до девяти лет, и одежду ей покупала. А один раз даже куклу с кукольной коляской.
Мама убила в себе бедного нерожденного ребеночка и оставила дочку жить без себя, но Люба не плакала. Не по кому стало плакать, раз мамы нет нигде. Не по отцу же, по-прежнему неизвестному.
Воспитательницы в детдоме звали Любу ласково – Любашей. Любили ее. Попросишь помочь – охотно поможет, во сне по ночам не кричит, не писается в кровать, как некоторые. Отчего не любить? Правда, не ластится, зато и видимой неприязни ни к кому не испытывает. Ровная, в общем, девочка.
Любе в детдоме нравилось. Кукол полно, занавески веселые, постели белые, еда каждый день как по праздникам. Ничего плохого бы не сказала про персонал детдома, да и школы-интерната, где выросла.
Не окончив медучилища, Люба неожиданно для себя и других выскочила замуж. Хороший попался парень, и не стала долго раздумывать. Захотелось чего-то своего. Не казенного. Пришла к мужу в общажную комнату с чемоданчиком, там и осталась на всю жизнь.
Через год родился Ванятка, солнышко, свет в окошке. Накрепко врезалась в память яркая картинка: Ванятке пять, тянется за пирожком, отец шлёп по ручке: «Погоди, никто еще не сел за стол!» Малыш в слезы, отец ему виновато: «Давай, в магазин сходим за сметаной, пока мама готовит?» И Любе: «Дверь за нами не запирай, мы быстро».
Больше живыми она их не видела. А шофер машины, переехавшей их на зеленый свет, был пьян в дуб, но жив…
Люба пропала для всех на несколько лет. Как жила – не секрет. Не жила, а была, что большая разница. Существовала. Объявилась санитаркой в травматологии не Любой, не Любашей. Викторовной. Седая, хотя совсем нестарая еще, с суровым лицом, с глазами холоднее снежка за шиворот, если покажется ей, что обидели. А не обижал никто целых пятнадцать лет. Потом пришла Роза и по природной бестактности да молодому нахальству брякала глупость порой. Ну и все.
…Она легонько коснулась родинки на его щеке.
– Ты откуда? Здешний? Родные-то есть?
Старик закрыл глаза, откинулся на подушку.
Врач на утреннем обходе, не особо церемонясь, после осмотра сказал:
– Выписывать надо. Состояние стабильное, а у нас коек не хватает. Больница – не хоспис.
– Ну что, на улицу выкидывают твоего «папку»? – заглянула в палату наглая Роза. – Зря бинты на «мусорщика» переводили, не переживет зиму без ног.
– А я его к себе заберу, – спокойно сказала Люба, и Роза, захлопнув рот, то бишь хавальник – иначе не назовешь – поскакала разносить новость по отделению.
Для вывоза Неизвестного Викторовне выделили машину. Доставили в общагу и свалили на кровать хозяйки комнаты.
– Кажется, я дура набитая, – вздохнула Люба, с тоской глядя на старика. – Зачем я тебя взяла?
Старик, как всегда, молчал. Только глаза стали влажными, и кадыком судорожно дернул, будто сглотнул.
– Пить хочешь, – догадалась Люба. – Сейчас чаю попьем.
Она к нему привыкла. И он привык – думать, вспоминать, ждать, когда уходила на смену. Позже стал понемногу помогать в хозяйстве, тележку себе смастерил. Руки-то целые. Но молчал так же, только смотрел благодарно и преданно.
Люба спала на раскладушке. Ночью вставала на стариковское кряхтенье и, тихо ворча, помогала ему сходить по нужде. К Новому году купила подарок – фланелевую рубашку. За столько лет что-то мужское…
«Чокнулись» лимонадом под бой курантов.
– С Новым годом и за здоровье, – сказала Люба.
Старик улыбнулся, кивнул.
– Говорят – надо, чтобы, если человек заболеет, был кто-то, кто мог бы о нем позаботиться. Стакан воды подать. Но и по-другому сказать можно: человеку важно, чтобы и ему было кому стакан поднести. И чтоб кто-то дома ждал. Вот почему я тебя взяла.
Старик снова кивнул.
– Я решила поискать твоих родных через горсправку. Интересно узнать, кто ты. Вдруг впрямь мой отец? Родинка-то у нас одна. Или потеряли тебя родные, отчаялись найти, а ты и не знаешь…
Через несколько дней зашла управдом Тамара Павловна. Окинула комнату строгим взглядом, задержалась на старике.
– Сказали мне, что ты бича подобрала, а я не верила. Деньги, что ли, тебе в больнице твоей платят за то, что ты инвалида взяла? А то без денег? Я понимаю, жалко, но… Не ночлежка у нас, нельзя без прописки. Ты его в Дом инвалидов сдай, я помогу.
Люба сидела молча, качала ногой в клетчатом тапке. А когда Тамара Павловна отговорила, как роща золотая, сказала с тихой ненавистью:
– Вы глаза-то разуйте. Это ж отец мой. Я что, сволота последняя – отца родного на мороз из дому вышвыривать?
– Да?.. – растерялась управдомша. – А-а… ну тогда, конечно… Ты уж пропиши его, раз такое дело… – Помешкала у двери. – У меня от мужа-покойника рубашки остались. Не носил почти. Принесу?
Люба не ответила, пожала плечом, а когда за Тамарой Павловной закрылась дверь, сказала:
– На фига нам ихние обноски, правда? Свое купим.
Помолчала.
– А никакой ты мне оказался не отец, Виктор Иванович. Мама моя – упокой ее душу с миром! – была «б» еще та, но с таким-то малолеткой не могла… наверное. Ты всего-то на пятнадцать годков меня старше. Стариком выглядишь из-за болезни, должно быть. Нашла я твою родню, самую близкую. Дочерей твоих – Веру и Надю. Была у них. Все про тебя узнала. Столяром работал, вот откуда руки золотые. Жена умерла, запил… Обычная история.
Она медлила, думая о своем. Не заметила, как старик подался вперед, задышал часто, и глаза налились слезами.
– Им квартира твоя нужна была, а ты – нет. И теперь не нужен… Короче, усыновляю я тебя. Или ты меня удочеряешь? Ну, все равно. Лечить тебя буду. Мы им еще всем покажем! Сила к рукам вернулась, значит, язык вернется. Скажи: Лю-ба. Что ты, горе мое, опять плачешь-то? Говори, не плачь. Ну? Это я – Люба. Понимаешь? Лю-бовь.
Виктория ГАБЫШЕВА
ТОП
- Гороскоп на 24 апреля 2024 года: Вы нервничаете из-за пустяков
- В «аквариуме» чуть не утонули двое детей, или Как таджик Хасан Авгонов спас их
- В Якутии пьяный мужчина с ножом ограбил три магазина: Добычей злоумышленника стали 13 бутылок водки
- В «аквариуме» чуть не утонули двое детей: Награда нашла героя
- В Якутске мужчина по решению суда возместил часть стоимости ремонта "Лексуса", поврежденного в ДТП
Свежие новости
- Сегодня ночью в Якутии откроется весенний сезон охоты
- В Якутии директор бюджетного учреждения предстала перед судом за хищение около 600 тысяч рублей
- В Якутске воспитательница детского центра в ресторане «Сунгари» избила другую посетительницу бутылкой
- В АЛРОСА проходит месячник промышленной безопасности
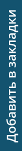


Комментарии
Добавить комментарий